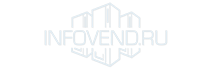Общественная дискуссия о еде оказалась захвачена волной противоречивого контента, избыточной информации, сенсационности и откровенной сенсационности. Мы стали как никогда гиперсвязанными и, как ни парадоксально, ещё более оторванными от самих себя. Вирусные сообщения распространяются быстрее, чем проверенная информация… и в этом смысле еда и напитки — очень лёгкая мишень.
То, что когда-то было приятным, первобытным и социальным опытом, теперь превратилось в минное поле подозрений: слишком много сахара? слишком много жира? Содержит ли эта еда микропластик или неизлечимые химикаты? Что, если тост слишком подгорел? Вреден ли белый хлеб? И так далее, бесконечные вопросы.
А теперь инфлюенсеры, консультанты по здоровому образу жизни, псевдогуру и даже органы здравоохранения распространяют информацию, практически не имеющую под собой никакой научной основы. Тем временем потребители (и без того испытывающие стресс из-за кризиса стоимости жизни) разрываются между недоверием, страхом и неуверенностью, принимая такие простые решения, как выбор молока, например.
На самом деле, это явление не ново, но в последние годы оно действительно усилилось (в том числе благодаря распространению социальных сетей). Любой заголовок, предполагающий, что ингредиент может быть «токсичным», вызывает немедленный эффект, независимо от контекста, дозы или фактических доказательств. Как отмечает Джессика Стейер, основательница и генеральный директор Unbiased Science, присутствие путают с опасностью, предполагаемый риск преувеличивается без учёта вероятности вреда. Что ещё серьёзнее, это усиливает дихотомическое представление о мире еды, где всё либо «натуральное», либо «плохое и вредное».
Стейер ссылается на предложение Роберта Ф. Кеннеди-младшего, нынешнего министра здравоохранения и социальных служб США, исключить восемь искусственных красителей из продуктов питания США к 2026 году. «Это происходит несмотря на отсутствие данных, подтверждающих риск для здоровья человека (часто в рассматриваемых продуктах питания наблюдается повышенная концентрация сахара или натрия), и без учёта преимуществ и затрат на переход на натуральные красители», — объясняет Стейер.
Подобные решения, мотивированные скорее социальным давлением, чем здравыми научными данными, а также решениями компаний (поскольку им приходится адаптироваться к изменяющимся и неточным правилам), влияют на общее благополучие конечного пользователя.
Растёт так называемая «химофобия» — иррациональное неприятие всего, что хоть как-то напоминает химию, даже если речь идёт об основных ингредиентах. Это приводит к неоправданному отказу от целых групп продуктов (например, молочных продуктов или спорных «ультраобработанных» продуктов) и укрепляет культуру завышения цен: семьи и потребители чувствуют давление, заставляющее их покупать только «органические» продукты (или, по крайней мере, так написано на этикетке) или принимать добавки, чтобы компенсировать этот предполагаемый дефицит питательных веществ.
Штайер говорит о потере доверия, при которой система (безопасность пищевых продуктов) становится заложницей изменчивых тенденций, в этом случае будет гораздо сложнее создать устойчивую, стабильную и основанную на фактических данных продовольственную среду.
Давайте информировать потребителей и пропагандировать ответственное повествование. С точки зрения отрасли, компании-участники должны продвигать честную, информативную и стратегическую коммуникацию, объясняющую причины использования определённых ингредиентов, методов ведения сельского хозяйства или сырья. Какую роль играет консервант? Что произойдёт, если мы от него откажемся?
Речь не идёт о том, чтобы замалчивать опасения, которые вполне обоснованы. Напротив, давайте рассмотрим нюансы: вещество может быть потенциально вредным, но это не означает, что оно делает это в обычных дозах или условиях потребления. Давайте расскажем об этой «серой зоне».
Речь здесь идёт не только о США, весь мир, пожалуй, за исключением беднейших стран, подвержен этой тенденции. В том числе и Россия.